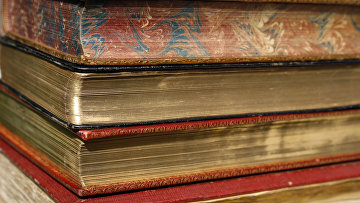"Клуб червонных валетов": Самое скандальное судебное дело в Российской империи
РАПСИ продолжает серию публикаций о наиболее громких судебных процессах в истории Российской империи. В каждой статье будет рассматриваться конкретное дело, цель — показать, как правовая система дореволюционной России сталкивалась с культурными, политическими и социальными вызовами, и как громкие процессы формировали общественное мнение и дальнейшую судебную практику.
Судебное дело против так называемого «Клуба червонных валетов» в Российской империи окутано множеством легенд и слухов, однако, если обратиться к сохранившимся газетным публикациям и фрагментарным архивным материалам, становится ясно: речь идёт о громком и крайне скандальном процессе конца XIX века. Оно было призвано продемонстрировать эффективность созданной в ходе Судебной реформы 1864 года системы суда присяжных. Однако вместо демонстрации силы правосудия страна стала свидетелем поразительного «провала»: из 45 обвиняемых 19 были полностью оправданы, причём среди них оказались настолько известные в криминальных кругах личности, что их имена сохраняются в уголовном фольклоре по сей день. Самое примечательное, что при наличии сразу 31 уголовного дела, объединённого в одно производство, и 59 официально признанных потерпевших (среди которых были и купцы, и дворяне, и владельцы доходных домов, и даже некие представители городских управлений), наказания для остальных обвиняемых вышли необыкновенно мягкими: самый «суровый» приговор составил 2,5 года тюрьмы (тогда же в быту говорили «колония», хотя формально это мог быть исправительный арестантский замок или тюремный замок особого режима).
Происхождение самого названия «Клуб червонных валетов» однозначно не установлено ни в архивах, ни в официальных приговорах. По одной версии, оно пошло от якобы любимой карточной игры членов этой группы, где красный (червонный) валет символизировал риск и азарт; по другой версии, своё прозвище они получили за склонность к распространению «красных» кредитных билетов — то есть фальшивых ассигнаций. Наконец, третья, более прозаическая версия, предложенная современными исследователями, указывает на то, что термин «Клуб червонных валетов» получил хождение благодаря газетам и городским слухам: журналистам требовалось нечто броское и запоминающееся для обозначения крупной банды аферистов, состоявшей из разных «колод» мелких и крупных преступников. Так или иначе, к моменту суда эти слова вошли в оборот настолько прочно, что прокурор в своей обличительной речи не раз употреблял выражение «так называемый Клуб червонных валетов».
Однако реальность была куда сложнее: «клуб» не имел чёткой внутренней организации и не напоминал некую жёсткую «мафиозную структуру». На протяжении 1871—1875 годов расплывчатое сообщество мошенников несколько раз переформировывалось, и его участники, сходясь и расходясь, совершали различные преступления — от производства фальшивых банковских билетов до убийства и уличного хулиганства. Сами себя они иногда называли «валетами» по аналогии с популярными в те годы бульварными романами, а именно с «Похождениями Рокамболя» Пьера Понсон дю Террая — это упоминали и следствие, и свидетели, допрошенные в суде.
Первые признаки существования этой преступной сети выявились в августе 1871 года, когда молодой московский купец Еремеев, уйдя в запой, попал под влияние мошенников Давидовского и Шпейера. Те, под благовидными предлогами и при участии нотариуса, который также входил в шайку, оформили на Еремеева фиктивные долговые расписки. Глубоко споенный купец практически не осознавал, что подписывает. Когда он наконец выбрался от своих «доброжелателей», то оказался тяжело болен белой горячкой и вскоре умер. Его значительное состояние в 150 тысяч рублей бесследно исчезло, а расследование по факту обмана быстро привело к именам Давидовского, Шпейера и к их общим знакомым. Полицейское дознание определило, что деятельность этих людей не ограничивается единичным мошенничеством и что у них есть подельники, а следы преступлений тянутся по разным городам. Фактически, с дела Еремеева начался целый клубок расследований, которые шли более пяти лет и закончились уже общим судебным процессом в 1877 году.
В сборных материалах «валеты» представляли собой группу неоднородную. По мнению прокурора Н. В. Муравьёва, занимавшегося обвинением, в сообществе можно выделить не меньше трёх «устойчивых кружков» (в некоторых официальных документах названных шайками). Первая шайка сложилась уже летом 1871 года и состояла из Шпейера, Давидовского, Протопопова, Массари, Дмитриева-Мамонова и Калустова — собственно тех, кого и считали ядром «червонных валетов». Они поддерживали роскошный образ жизни, представлялись аристократами, в Москве арендовали «притон» на Тверской улице в доме некоего Любимова. Особенно активны мошенники были во второй половине 1871 года (именно тогда и случилось дело с Еремеевым), а затем во второй раз развернулись летом 1873-го. Цитируя один из материалов обвинения: «В вышеназванной компании существовали общие денежные авансы и общий для всех интерес в выманивании чужого имущества, причём прикрытие светскими титулами и знатными фамилиями приносило им успех в более обеспеченных кругах общества». Прокурор Муравьёв в своей речи заявлял, что группа Шпейера и Давидовского является «главной во всём сообществе» — вокруг этих людей формировались связи, а к ним тянулись более мелкие жулики, видя в них и денежный, и статусный ресурс.
Вторая часть сообщества, на первый взгляд кажущаяся отдельной историей, связана с бутырскими арестантами, которые умудрились в тюрьме наладить производство фальшивых банковских билетов. Вот уж прямая параллель с пресловутыми современными колл-центрами якобы из мест заключений. Зачинщики, в частности, некие Верещагин и Неофитов, пользовались тем, что в Бутырках существовали «более чем свободные порядки»: заключённые могли получить доступ к химическим реактивам и как-то пересылать готовые фальшивки на волю. Следствие предполагало, что значительную часть изготовленных таким образом денежных билетов в дальнейшем реализовывали («сбывали») через знакомых адвокатов, через коррумпированных чиновников, а порой и через самих «валетов» Шпейера и Давидовского. Полиция вышла на этот след лишь в 1872 году, когда недавно освобождённый из тюрьмы человек передал правоохранителям переделанный из билета малой стоимости фальшивый билет на 10 тысяч рублей. Запутанное расследование привело к тому, что среди бутырских заключённых как минимум восемь человек имели отношение к подделке, к вытравливанию цифровых обозначений с настоящих ассигнаций и прочим уловкам. Были обнаружены и конкретные улики: у арестанта Сидорова нашли целый набор химических веществ (клей, хлористые соединения и т. п.), необходимые для переделки купюр. Так что сомнений в существовании организованного фальшивомонетчиками «мини-завода» в Бутырках не осталось.
Третья устойчиво действовавшая группа возникла в 1874 году. В этот момент часть прежних «валетов» (Шпейер, Дмитриев-Мамонов, Давидовский) уже находилась под следствием или же исчезла из поля зрения сыщиков, а люди из бутырской шайки, напротив, отбыв небольшой срок либо выйдя под залог, вновь объединились. Самым известным эпизодом этого времени стала так называемая «афера с пустыми сундуками», когда мошенники, выдавая пустые ящики за дорогие грузы, отправляли их перевозчикам наложенным платежом на имя вымышленных получателей. Декларированная стоимость груза позволяла закладывать «права на него» в качестве ценных бумаг и получать под них реальные деньги. По отдельным эпизодам говорилось, что мошенникам удавалось выручать 200–600 рублей на каждой подобной «посылке». Система, впрочем, развалилась относительно быстро, ибо перевозчики быстро раскрывали обман, вскрывая невостребованные грузы, а жулики попадали в поле зрения полиции.
В феврале 1877 года, когда начались судебные слушания, на скамье подсудимых оказалось 45 человек (изначально фигурировали 48, но двое — Шпейер и Симонов — скрылись, а Султан-Шах был признан невменяемым и выведен из процесса). Глубину ситуации подчёркивало и сословное положение этих людей: 27 из них были дворянами, а общая характеристика включала самый пёстрый набор национальностей: «русские, немцы, поляки, евреи, армяне» — именно так описывалась смесь участников, согласно знаменитой речи адвоката Фёдора Никифоровича Плевако (в тексте, опубликованном впоследствии в нескольких изданиях, приводятся его слова): «По национальности здесь и русские, и немцы, и поляки, и евреи, и армяне. По происхождению и роду деятельности: потомок Рюрика, коловратностью людской судьбы превратившийся в ефремовского мещанина Долгорукова, помещается вместе с иркутской мещанкой Башкировой, после крушения у берегов Японии явившейся в Москву для того, чтобы сесть на скамью подсудимых, учитель танцев и нотариус при окружном суде…».
Среди обвиняемых особое место занимает Сонька «Золотая ручка» (Софья Ивановна Блювштейн) — женщина, чья криминальная деятельность давно сделала её фигурой легендарной, овеянной ореолом дерзости и неуловимости. Однако в рамках конкретного процесса «Клуба червонных валетов» доказать её причастность к ряду эпизодов оказалось трудно, поскольку следствию не хватало именно прямых улик — всё сводилось к показаниям соучастников, которые путались или отказывались от прежних слов. Как следствие, присяжные вынесли в отношении Софьи Блювштейн оправдательный вердикт, что шокировало потерпевших и прессу, но формально сошлось с логикой тогдашней судебной процедуры: «Сомнения толкуются в пользу подсудимого».
Процесс вёл председатель А. Я. Орловский. Обвинительную сторону представлял прокурор Н. В. Муравьёв, который в ряде источников выступает как инициатор соединения всех дел в одно. Его позиция основывалась на том, что «шайка» имела единую преступную цель — «похищение чужого имущества посредством выманивания, подложного составления документов, введения в обман». По утверждению Муравьёва, «участники, показавшие себя искусными в одном деле, легко находили себе применение в другом, переходя из рук в руки и сохраняя чувство взаимной поддержки», а потому необходимо было доказать сам факт существования «сообщества», а не просто предъявлять разрозненные эпизоды. В этом прокурор видел важнейший прецедент — впервые, по его словам, в суде предстали люди «высшего круга», сознательно ставшие «профессиональными жуликами». Журналисты, освещавшие процесс, акцентировали внимание на том, что прокурор подчёркивал «большую общественную опасность» подобного союза и требовал, чтобы суд присяжных вынес максимально суровые приговоры.
Однако защита, в рядах которой были лучшие представители тогдашней адвокатуры — помимо Плевако, участвовали С. В. Евреинова, Л. А. Куперник, А. В. Лохвицкий, В. М. Пржевальский, А. А. Саблин, Н. Гейнце и другие — заняла общую стратегию: отрицать существование «единого центра» и единого заговора. Они убеждали присяжных, что объединение столь разных эпизодов, где нет подчас ни одного пересечения между обвиняемыми, изначально неправомерно, а вся концепция «клуба» или «шайки» искусственно сконструирована во время следствия. Адвокаты упирали и на то, что следователи, пользуясь давностью ряда преступлений (до пяти-шести лет на момент суда), попросту не смогли собрать достаточно прямых доказательств; а во многих случаях ключевые свидетели либо умерли, либо исчезли (как, например, с делом Еремеева, где главный потерпевший скончался задолго до слушаний).
Особое внимание прессы привлекла тактика адвокатов, которые разоблачали методы следствия. Так, по одному из эпизодов (мошенничество с обманом некоего Логинова в 1874 году) прокурор пытался обосновать «групповое» деяние, но после выступления нескольких свидетелей защиты был вынужден снять обвинение в части «организованной группы». По другому эпизоду выяснилось, что следователи оказывали материальную помощь обвиняемой Никифоровой, «попавшей в крайности», адвокаты тут же использовали это, чтобы вызвать недоверие к её признательным показаниям.
В результате после длительных заседаний присяжные заседатели согласились, что «в 1871 и 1872 в Москве было составлено преступное сообщество» и признали виновными 26 человек в создании и поддержании этой организации; ещё 19 человек они оправдали полностью. При этом встали на сторону защиты в вопросах о непосредственном участии ряда подсудимых в отдельных эпизодах. Формально это означало, что суд счёл доказанным сам факт существования «червонных валетов», но при этом конкретные действия далеко не всех подсудимых посчитал доказанными. Наказания оказались удивительно умеренными: суд учёл, что многие обвиняемые просидели в предварительном заключении по нескольку лет (некоторые — более трёх-четырёх, а Башкирова — почти пять), поэтому верхний порог тюремного срока составлял два с половиной года, а остальные сроки были ещё короче (от трёх до тридцати месяцев). Часть обвиняемых приговорили к ссылке в Сибирь «в места не столь отдалённые», но без каторги, чего настоятельно требовало обвинение. Каторжных работ не было назначено никому, хотя, по мнению прокурора Муравьёва, особую опасность для государства представляли те, кто активно вёл подделку денежных знаков.
Помимо этого фактора (длительное предварительное заключение), мягкость наказаний объяснялась и тем, что суд не усмотрел в большинстве эпизодов «особого цинизма» или «систематического посягательства на устои государства» — то, на чём прокурор пытался сделать основной упор. Таким образом, «дело червонных валетов» для многих современников стало символом того, что суд присяжных, обладая несомненными преимуществами, может приводить к результатам, далёким от ожиданий — особенно когда следствие перегружено сложнейшими сюжетами и вынуждено увязывать в одном слушании десятки эпизодов разной степени тяжести. В прессе справедливо отмечали, что процесс, объединивший столь пёструю компанию преступников (или предполагаемых преступников) — и дворян, и выходцев с Аляски, и арестантов-химиков из Бутырок — стал «поистине апофеозом второго десятилетия жизни реформированного суда». Но в то же время был и разочаровывающий итог для сторонников «карательного примера»: каторга, столь привычная за тяжкие преступления, на сей раз никому не грозила.
Объединённый приговор был оглашён 5 марта 1877 года. Осуждённым в целом определили тюремные сроки от трёх до тридцати месяцев или ссылку в отдалённые районы. Кроме того, многие были лишены прав состояния (что, впрочем, при дворянском статусе означало значимое социальное поражение).
Газеты взорвались множеством разнообразных откликов. Одни журналисты (особенно в либерально настроенных изданиях) превозносили прогрессивность суда присяжных. Другие (более консервативные) издания, наоборот, обвиняли присяжных в «излишней жалостливости» и «неспособности воспринять общую опасность». Но как бы ни относились современники к вердикту, многие признавали, что этот процесс положил важный рубеж в уголовно-процессуальной практике империи. Впервые был дан столь детальный разбор «громоздкого сговора», где десятки подсудимых принадлежали к разным слоям общества, а преступления охватывали широкий географический разброс: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Тамбов, Нижний Новгород.
Знаменательный процесс, казалось бы, должен был поставить точку в масштабной истории фальшивомонетничества и мошенничества, но вместо этого лишь высветил слабые места судебной системы Российской империи, заставил усомниться в компетенции отдельных следователей и дал пищу для размышлений публике: а настолько ли надёжен суд присяжных, чтобы доверять ему наиболее сложные и громкие дела?
Ведь когда в результате столь впечатляющего разбирательства легенды уголовного мира вновь выходят на волю, общество невольно делает вывод: совершенства не существует, а шансы вывернуться из рук правосудия достаточно велики у всякого, кто умеет ловко использовать пробелы в законе и слабость обвинения. Именно этот цинизм и ироничное отношение к государственным институтам во многом определили дальнейший скепсис общества к ряду громких процессов конца XIX ― начала XX века. И до сегодняшнего дня историки права, просматривая архивные документы по этому делу, замечают, что вся история «Клуба червонных валетов» напоминает тщательно срежиссированную пьесу, в которой каждый участник играл заданную роль, но авторы постановки явно переоценили свои возможности, когда решили, что присяжные зайдут вслед за ними в самые глубины преступных махинаций. На деле же публика увидела лишь поверхностную схему: многообещающее громкое обвинение и почти фарсовую развязку.
Андрей Кирхин
*Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
*Стилистика, орфография и пунктуация публикации сохранены