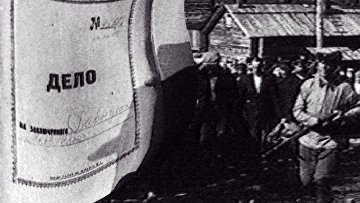Массовые репрессии в СССР в 1937–1938 годах
О предпосылках и причинах ареста за два года 1 565 041 человека и расстрела 668 305 осужденных рассказывает в сто двадцать шестом материале своего тематического цикла юрист, кандидат исторических наук, депутат Государственной Думы первого созыва Александр Минжуренко.
Конституция 1936 года СССР выглядела намного более демократично по сравнению с предыдущими. И это представлялось довольно логичным. Враждебные диктатуре пролетариата эксплуататорские классы были ликвидированы, а представители этих классов в большом числе подверглись физическому уничтожению в годы «красного террора» и Гражданской войны. К этому нужно добавить то, что с 1918 по 1924 годы из России эмигрировало около 5 миллионов человек – явных оппонентов большевиков.
Таким образом, социально-политическая ситуация в стране, казалось бы, должна стать значительно стабильнее. Социализм ко второй половине 1930-х годов победил и был «в основном» построен. Выходило, что самые острые фазы классовой борьбы остались позади.
Однако вождь ВКП(б) Иосиф Сталин имел прямо противоположное мнение. Еще в 1928 году в своей речи он сказал: «По мере нашего продвижения вперёд сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться... Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению».
И уже после принятия новой «сталинской» Конституции он вновь возвращается к этому тезису. 3 марта 1937 года в своём докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин сказал: «Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё более и более ручным.
Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу даёт возможность оправиться для борьбы с Советской властью.
Наоборот, чем больше будем продвигаться вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обречённых».
На каком основании были сделаны такие выводы — осталось для слушателей не очень понятным, ибо никаких статистических, аналитических и экспертных оценок в доказательство этого заключения нигде не приводилось.
Можно только предполагать, что Сталин пришел к такому тезису, исходя из огромных по масштабам неудач и даже провалов в деле строительства основ социализма. Несмотря на парадные доклады о досрочном завершении пятилетнего плана по индустриализации, он был по основным показателям очень недовыполнен.
Так, по тем временам ключевым мерилом процесса индустриализации был показатель выплавки чугуна. И по заданию XVI съезда партии в 1930 г. его производство должно было достигнуть за пятилетку уровня в 17 млн тонн, но в действительности было выплавлено 6,2 млн тонн.
Сельскому хозяйству в ходе раскулачивания и коллективизации был нанесен огромный урон. Особенно пострадало животноводство: к концу 1932 года, по сравнению с 1928 годом, поголовье лошадей сократилось на 39%, крупного рогатого скота — на 38%, овец и коз — на 65%, свиней — на 64%.
На фоне полного упадка производства зерна относительно далеко не самый тяжелый неурожай 1932 года привел к массовому голоду в 1932-1934 гг. и большой смертности населения. В России от голода умерло 2,4 млн человек. Особенно пострадали районы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья, Урала и Южной Сибири.
Газеты обо всем этом не писали. И многие граждане СССР не представляли себе полной картины тяжелейшей ситуации в стране. А самыми посвященными в истинном положении дел оказались только высокопоставленные партийные и государственные руководители. И мы увидим, что процент репрессированных будет строго пропорциональным степени допуска человека к подлинной информации и к государственным тайнам.
Сталин верно предположил: на таком фоне провалов политики партии сомнение и разочарование в верности курса было неизбежным. И оно, несомненно, было. Скорее всего, этот недовольный ропот был массовым явлением. И что было особенно опасным – ропот охватил высшие этажи власти.
Ответственные руководители государства вполне естественно реагировали на неудачи, т. е. обсуждали между собой «ошибки» проводимой политики, пытались выявить причины провалов. И Сталин, видимо, решил с этим бороться беспощадно, вплоть до полного уничтожения всех сомневавшихся и потерявших веру в непогрешимость вождя.
Представляется, что Сталин прекрасно понимал, что речь в этом случае идет не о «предателях» и «врагах народа», а о лучших представителях партии, которые были серьезно озабочены положением дел в стране.
Единственным их «преступлением» оказалось то, что они усомнились в вожде. Серьезным сигналом об этом были результаты голосования на XVII съезде ВКП(б). При подсчете голосов по выборам в члены ЦК приняли участие 1225 делегатов, но в протоколах счетной комиссии проголосовавших значилось лишь 1059 человек. 166 голосов исчезло. За Сталина по протоколу проголосовало 1056 делегатов, за Сергея Кирова – 1055. В этом же году Киров был убит прямо в Смольном.
Самым убедительным доказательством того, что в ходе массовых репрессий пострадал прежде всего «цвет» партии, являются данные о судьбе делегатов XVII съезда ВКП(б).
Из 1966 делегатов «съезда победителей» более половины – 1108 человек – были осуждены «за контрреволюционные выступления». Это были исключительно руководящие кадры, уцелели из делегатов только рядовые рабочие и колхозники. Данные были рассекречены и озвучены на XX съезде КПСС в 1956 году. После этого «съезд победителей» стали в литературе называть «съездом расстрелянных».
Еще больший удельный вес репрессированных оказался среди членов ЦК, избранных на съезде. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии 70% были арестованы и расстреляны в 1937-1938 гг. как «враги народа». А это уж и подавно были «сливки» партии, ее лучшие люди.
Таким образом, Центральный Комитет до следующего съезда в 1939 г. заседал в отсутствие кворума: на заседаниях присутствовало менее трети его членов, оставшихся в живых.
Особенно разрушительными для Вооруженных сил страны явились массовые репрессии среди старшего и высшего командного состава армии и флота. Их причинами были те же самые вышеперечисленные опасения Сталина, к которым добавлялся страх перед возможностью военного переворота.
Масштабы уничтожения высших командиров огромны. Погибло три из пяти Маршалов Советского Союза. И совсем невероятно, но процент репрессированных военачальников генеральского уровня превышает цифру в 100%. Так, из 15 командармов на 1936 год в 1937-1938 гг. было расстреляно 19, т.е. 133%, а из 4-х флагманов флота расстреляно 5, т.е. 125%. Репрессировано было и 112,6% комкоров (командиров корпусов). Это значит, что некоторых командиров повысили в звании незадолго до казни, в период уже развернувшихся репрессий.
Было расстреляно 76% командиров дивизий. Подобного урона в высшем начальствующем составе не несла ни одна армия в истории даже в длительных войнах.
По такому же принципу уничтожения прежде всего информированных государственных служащих расширялись масштабы репрессий и в других сферах власти: были обезглавлены многие союзные и республиканские наркоматы, арестам подвергались порой почти все руководящие работники обкомов и крайкомов партии.
Репрессии коснулись и деятелей науки и техники: погиб в лагерях ученый мирового уровня академик Н.И. Вавилов, был арестован выдающийся ученый, создатель советской ракетно-космической техники С.Н. Королев, авиаконструктор А.Н. Туполев и многие другие.
Самым грубым нарушением всех принципов права и правосудия явились в этот период «тройки» — чрезвычайные органы внесудебной расправы с политическими оппонентами.
30 июля 1937 года вышел оперативный приказ наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Согласно этому документу, на местах создавались комиссии из трех человек: начальника областного (республиканского в автономиях) УНКВД, секретаря обкома ВКП(б) и областного (республиканского) прокурора. Такие «тройки» получали право приговаривать арестованных лиц к расстрелу или заключению в тюрьмы и лагеря сроком от 8 до 10 лет.
Решения выносились тройкой заочно — по материалам дел, представляемым органами НКВД, а в некоторых случаях и при отсутствии каких-либо материалов — по представляемым спискам арестованных. Процедура рассмотрения дел была свободной, протоколов часто не велось, обвиняемые и адвокаты отсутствовали. Решения тройки обжалованию не подлежали.
Всего с 1 октября 1936 года по 1 ноября 1938 года органами НКВД СССР было арестовано 1 565 041 человек. В том числе арестовано в порядке приказа НКВД № 00447 — 702 656 человек. Из них осуждено 1 336 863 человек, из которых 668 305 человек — около 50% — приговорены к расстрелу.
В 1954-1961 годах за отсутствием состава преступления было реабилитировано 737 182 человека. К 1988 году — 1,3 млн человек. К 1991 году реабилитировано подавляющее большинство репрессированных. Почти все дела были грубо сфальсифицированы.
Продолжение читайте на сайте 29 апреля